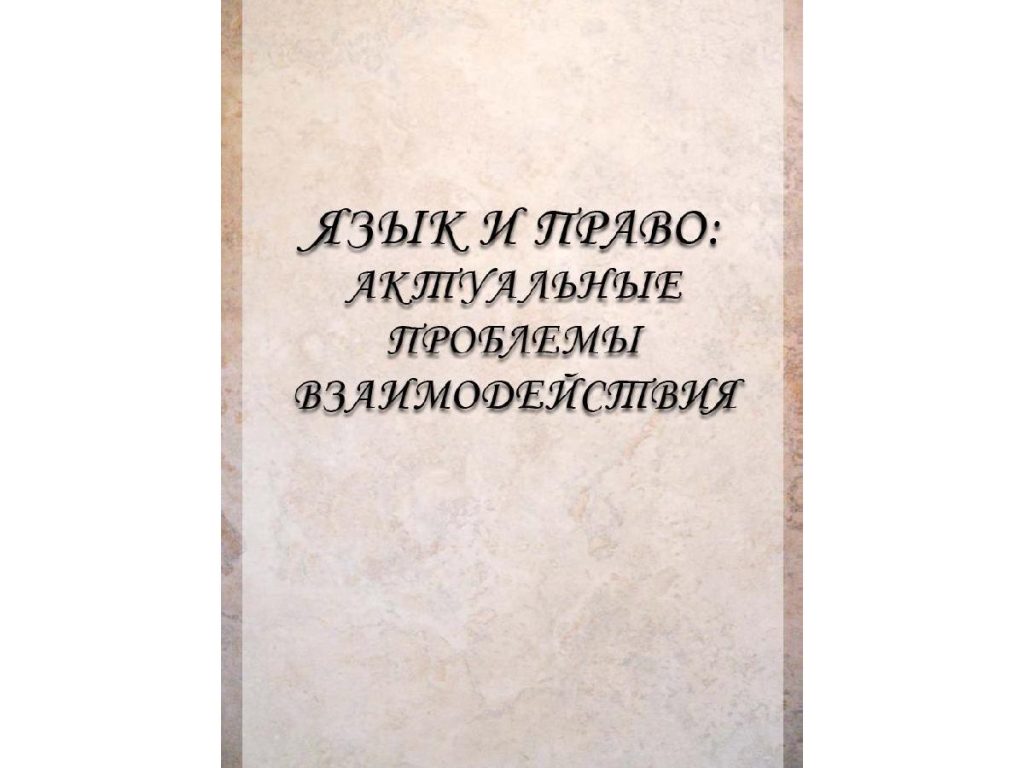
ЯЗЫК И ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Материалы Международной научно-практической Интернет-
конференции
Ростов-на-Дону
Ростовское книжное издательство
2011
АННОТАЦИЯ
Следователю, не владеющему иностранными языками. трудно проверить переводчика. По многим причинам нельзя также проверить документы переводчиков об образовании. Выполнить требование ч.2 ст.169 УПК можно только в сотрудничестве с авторитетной судебно-переводческой организацией. При этом следователь должен обратить внимание на наличие или отсутствие выраженных диалектов языка, которым владеет обвиняемый, и особенности общественной морали соответствующего этноса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Компетентность переводчика, судебно-переводческая организация, цыганский язык, цыганские диалекты, чеченский язык, молдавский язык, национальная общественная мораль, языки в практике ФСКН, недопустимость требования СК РФ дипломов об образовании.
Винников А.В.
Особенности подбора и проверки переводчика следователем ФСКН в соответствии с частью 2 статьи 169 УПК РФ.
Очерк практики
Согласно ч.2 ст.169 УПК РФ, перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следователь удостоверяется в его компетентности. Как же осуществить это, не владея иностранными языками?
1.Простые правила не действуют
Проще всего попросить у переводчика диплом о его высшем образовании. Однако сегодня следователю приходится иметь дело с переводчиком как сотрудником судебно-переводческой организации, т.е. с юридическим лицом. Гражданско-правовые последствия этого еще не всем ясны. В результате требования дипломов и иных личных документов переводчика сталкиваются с юридическими трудностями. Наглядный пример – условие, выставляемое СК РФ судебно-переводческим организациям: перед заключением договора предоставлять копии дипломов переводчика и действующие трудовые договоры с ними. Оно стало примером того, как не надо проверять компетентность переводчика:
А) Противоречие ТК РФ
Юридическое лицо — исполнитель по договорам о возмездном оказании услуг по переводу — поручает выполнение перевода своим сотрудникам в порядке выполнения ими служебного задания. Следователь (дознаватель), в производстве которого находится соответствующее уголовное дело, в силу ст.59 п.п.1,2 УК РФ, своим постановлением назначает переводчиком предложенное Исполнителем лицо (переводчика) из числа сотрудников Исполнителя, которое приобретает правосубъектность участника уголовного процесса.
Исполнитель по договору относится к переводчику как работодатель к работнику и действует на основании ТК РФ. В силу ст. 88. ТК РФ, работодатель не имеет права сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника. Персональные данные работника — информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника (ст.85 ТК РФ). К таким данным относится все содержимое персонального дела работника: паспортные данные, автобиография, сведения об образовании и квалификации, трудовой договор и т.д..
Если организация-Исполнитель не имеет письменных согласий ее сотрудников о передаче третьим лицам этих сведений, то самовольная их передача будет являться нарушением законодательства о труде и нарушением порядка сбора, хранения, использования и распространения персональных данных (КоАП, ст.13.11).
Не может Исполнитель и нарушать конституционные свободы своих сотрудников, понуждая их к даче согласия на передачу их персональных данных третьим лицам.
Б) Противоречие антимонопольному законодательству
Согласие работников на передачу их персональных данных не зависит от воли хозяйствующего субъекта. В случае если сотрудники одной фирмы дают согласие на передачу их персональных данных потенциальному заказчику, а сотрудники другой фирмы такого согласия не дают, то это ставит последнюю в дискриминированное положение на рынке услуг, что запрещено п.8 ст.4 Закона № 135-ФЗ.
Сведения о заработной плате и квалификации работников могут быть также предметом коммерческой тайны работодателя.
Все это показывает, что требование следственного органа о передаче ему как заказчику по договору о предоставлении услуг переводческой организацией персональных данных переводчиков является невыгодным для контрагента и не относящимся к предмету договора. Навязывание контрагенту таких условий, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений, в которых контрагент не заинтересован, противоречит положениям пп.5п.1ст.11Федерального закона № 135-ФЗ.
Единственное требование, предъявляемое п.1 Статьи 59 уголовно-процессуального Закона РФ к переводчику – это свободное владение языком, знание которого необходимо для перевода. Дополнительные не предусмотренные УПК РФ требования означают в таком случае искусственное введение со стороны следствия как органа государственной власти ограничений в отношении осуществления переводческой деятельности (пп.1 п.1 ст.15 гл.3 Федерального закона № 135-ФЗ).
В) Противоречие здравому смыслу
Официальным документом, регламентирующим требования к подтверждению квалификации работника в РФ, является «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 июля 2003 г.). Его требования к квалификации переводчика: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. А такое образование подтверждается, как известно, дипломом государственного образца.
Перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27 сентября 2007 г. N 265 «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования», содержит семь специальностей, имеющих отношение к иностранным языкам. В должностях переводчиков могут работать лица, имеющие любую из этих специальностей, хотя только одна из них предусматривает присвоение выпускнику квалификации «Лингвист, переводчик» и формально соответствует упомянутым выше требованиям следствия. Таким образом, от участия в работах по переводческому обслуживанию органов следственных органов были бы произвольно отстранены до 90% дипломированных специалистов, что не соответствует здравому смыслу.
Таким образом, следователь даже не может получить обычный диплом в подтверждение квалификации переводчика.
2.Языки и диалекты в практике ФСКН
Еще сложнее в этом отношении положение следователя Наркоконтроля. Практика авторов в 2003-20011 гг. показывает следующую приближенную пропорцию распределения запросов языков судебных переводчиков, запрашиваемых органами ФСКН РФ у судебно-переводческих организаций для участия в следственных действиях:
1.Цыганский язык различных диалектов — 80%
2.Языки Дагестана – 12%
3.Вайнахские языки – 5%
4.Прочие языки России и стран СНГ – 3%
ВУЗы РФ готовят специалистов со знанием основных европейских языков – английского, французского, немецкого, испанского. Прочие иностранные языки как основные преподают на Дальнем Востоке (китайский. японский), в 1-2 ВУЗах Минобороны, в некоторых ВУЗах Москвы. Найти дипломированных переводчиков (в паре с русским) даже таких европейских языков, как чешский, португальский, сербский, литовский, финский, греческий и т.д. и т.п., как правило, невозможно. Это экзотика.
Дипломированных переводчиков приведенных выше языков России и СНГ, востребованных в практике ФСКН, (а также курдского, езидского, кабардинского, ассирийского, талышского, молдавского и т.п.), в паре с русским в принципе не существует. Достаточно сказать, что в Республике Дагестан существуют около 100 языков, причем все, по конституции Дагестана, являются государственными, но далеко не все имеют даже собственную письменность.
Это должно компенсироваться привлечением к работам по переводу в уголовном судопроизводстве этнических носителей таких языков, достаточно владеющих как собственным, так и русским языком, что соответствует определению переводчика ч.1 ст.59 УПК РФ. В вопросах компетенции такого переводчика следователю придется полагаться на авторитет направившей его подрядной судебно-переводческой организации, выбранной постановлением самого следователя, т.к.обращение к механизму торгов в смысле Закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ в уголовном процессе не предусмотрено УПК РФ (см. письмо от 18 сентября 2007г. № 14026-ФП/Д04 Минэкономразвития РФ). Доказательством компетенции переводчика будет являться выданное судебно-переводческой организацией удостоверение, копия которого подшивается следователем в уголовное дело.
Исходя из номенклатуры востребованных в практике Наркоконтроля языков, можно рекомендовать следователям сотрудничать только с такими судебно-переводческими организациями, которые работают с цыганским языком, а точнее, с диалектами этого языка, и производят все виды судебного перевода:
-устный перевод при следственных действиях;
-письменный перевод процессуальных документов (постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения);
-письменный перевод ПТП — результата ОРМ.
В цыганском языке существуют многочисленные диалекты, довольно далеко отстоящие друг от друга: руска рома, влашский, ловарьский, крымский, кэлдерарский (котлярский) и др. В России и странах СНГ наиболее распространен диалект русских цыган «руска рома».
Для правильного заказа судебного переводчика цыганского языка, следователю необходимо установить, какой из диалектов необходим. А с учетом того, что этнические цыгане крайне неохотно идут на сотрудничество с правоохранительными органами, задача обеспечения процесса цыганским переводчиком становится посильной только очень мощной и опытной судебно-переводческой организации. Но нельзя и отказать обвиняемому в цыганском переводчике под предлогом того, что «сами цыгане функционально неграмотны на своем родном языке» или что их письменность и литературная норма являются «мертворожденными», т.к. это ведет к развалу соответствующих уголовных дел: защита с легкостью доказывает обратное. Существует обширная учебно-дидактическая, лингвистическая и художественная литература на цыганских диалектах. Цыганский язык – это объективная реальность. Автору приходилось встречаться с неграмотными цыганами, не владеющими, тем не менее, никаким иным языком, кроме цыганского.
Аналогично дело обстоит с языками Дагестана. Например, даргинский язык, который находится на втором месте в Дагестане по числу говорящих на нем людей, имеет несколько сильно отличающихся друг от друга диалектов. В основу литературной нормы языка положен акушинский диалект, принятый в одноименном районе республики. Его не поймут, скажем, даргинцы, проживающие в Кадарском районе Дагестана.
Наоборот, вайнахские народы — ингуши и чеченцы — отличаются компактным проживанием и единством языкового стандарта. Здесь следователь должен с недоверием отнестись к утверждениям обвиняемого о том, что он не понимает переводчика – своего этнического соотечественника. В нашей практике был случай, когда «горный» чеченец якобы не понимал «равнинного» чеченца. Хотя это утверждение было ложно, судья предпочел не рисковать приговором, а вызвать сертифицированного переводчика чеченского языка из судебно-переводческой организации. Еще чаще обвиняемые-молдаване путают следствие, заявляя, что есть разница между молдавским и румынским языками. На самом деле даже в школах Молдавии давно преподают только румынский язык, поскольку Молдавия для Румынии – лишь географическое понятие.
3. Иные особенности судебного перевода
Однако в случае вайнахских языков следователя ждет новый подводный камень. В прошлом году в одной по сибирских областей расследовалось уголовное дело по обвинению лица ингушской национальности по ст. 228 УК РФ. 17 потенциальных переводчиков исчезли из поля зрения после первой встречи с обвиняемым. С задачей справился только последний переводчик, приглашенный органом следствия из удаленной судебно-переводческой организации.
Причина состоит в том, что обвиняемый опознавал переводчиков и через свои связи просил их старших родственников убрать их из процесса с целью его затягивания. С незнакомым переводчиком это у него не получилось.
В общем случае следствию бывает очень трудно без помощи квалифицированной судебно-переводческой организации бороться с необоснованными претензиями обвиняемых или их защиты к судебным переводчикам. Яркий пример – уголовное дело в отношении группы лиц чеченской национальности, находившееся в производстве СК Карелии в 2007г. Обвиняемые по резонансному «Кондапожскому» делу произвольно давали отвод многим переводчикам. Дело сдвинулось только после обращения следствия в удаленную судебно-переводческую организацию. В дальнейшем, уже в суде, эта организация спасла дело от развала, напомнив, что перевод процессуальных документов, выполненный для соблюдения прав обвиняемых, сам к числу доказательств по делу не относится.
4.Выводы
1.В практике следствия Наркоконтроля преобладают редкие языки и диалекты, переводчиков которых не готовит система образования России.
3. Следователь имеет возможность проверить компетентность переводчика этих языков в соответствии с частью 2 статьи 169 УПК РФ только на основании их сертификации судебно-переводческой организацией.
4. Обращаясь с заданием о подборе переводчика к судебно-переводческой организации, следователь должен внимательно изучить вопрос о наличии и характере диалектов соответствующих языков, а также принять во внимание особенности общественной морали этноса, к которому принадлежит обвиняемый по делу.